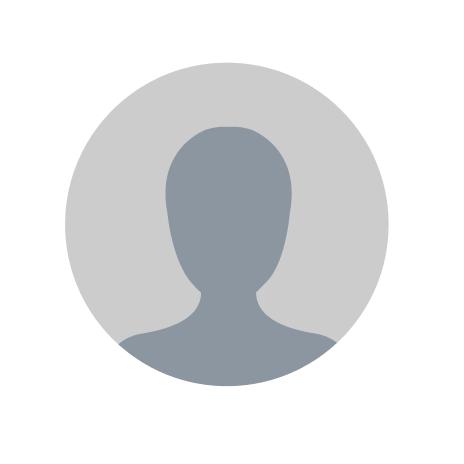Андрей Борисов, политолог, кандидат исторических наук: «Я убежден, что XXI век будет веком "большинства"»
Политолог, специализирующийся на изучении мультикультурализма и проблемах этнических диаспор – явление в Перми очень редкое. Скорее даже единственное. Представлена она в лице Андрея Борисова – молодого кандидата исторических наук...

Политолог, специализирующийся на изучении мультикультурализма и проблемах этнических диаспор – явление в Перми очень редкое. Скорее даже единственное. Представлена она в лице Андрея Борисова – молодого кандидата исторических наук, жесткого за преподавательской кафедрой и весьма жизнерадостного по окончании лекции человека.
Пермь, слава Богу, не Кондопога – у нас пока не замечено крупных конфликтов на этнической почве, не ходят по улицам бритоголовые молодчики, да и представители мигрантских общин ведут себя более-менее мирно. Однако, как выяснилось, вероятность конфликтов на почве «какой-либо» нетерпимости исключать никак нельзя, к сожалению…
– Андрей Александрович, у вас ведь, если не ошибаюсь, чисто «техническая» юность была?
– Да, действительно, по первой своей профессии я машиностроитель. Моя трудовая книжка фиксирует начало трудовой биографии на заводе или, как раньше говорили, на производстве. Там я занимался наладкой и ремонтом станков с числовым программным управлением и обрабатывающих центров. Увлекательное, скажу я вам, дело! И не только с точки зрения профессиональных компетенций, но и иных познаний, скажем, филологических. На производстве пришлось осваивать своеобразный рабочий сленг, разбираться в матерных словах, их значении. У меня было много открытий!
На машиностроительное предприятие я попал после техникума, который был колоритным учебным заведением. Там работали «крепкие» педагоги, многие из которых – особенно это касалось специальных учебных дисциплин – были прямо с производства. Конечно, обстановка там была довольно своеобразная: в основном контингент учебного заведения составляли парни, там была строгая, почти воинская, дисциплина. Каждое утро начиналось с линейки и развода. Техникум строился по группам, и старосты докладывали директору об опоздавших, которых вызывали к руководству «на ковер». Таков был антураж! Кстати, многие из моих однокурсников по техникуму уже принадлежат истории, их попросту нет в живых: кто-то погиб в «горячих точках», кто-то попросту был убит в разборках лихих 1990-х годов.
Однако техникум мне много дал, и я вспоминаю о нем с благодарностью. Он дал мне не только первую профессию, но и первый жизненный опыт. Бесценный, надо сказать! Техникум создал условия для успешной социализации в дальнейшем. Техникум я окончил с отличием, поэтому на заводе мне сразу же предложили должность инженера, что, конечно же, мне очень польстило в первый момент. Однако на дворе стоял 1991 год, с его сложностями и противоречиями. И завод, его внутренняя жизнь, работа в цеху по сборке электровозов, никакого впечатления на меня не произвели. Я попросту понял, что мне нужно менять сферу деятельности. Это не мое! Поэтому я отказался от мысли продолжать учебу в политехническом институте. В результате я оказался в Пермском государственном университете на историческом факультете. Так начался новый этап в моей жизни.
– Не тяжело было так резко «переквалифицироваться»?
– Да, конечно, адаптационный период не был простым. Я пришел на первый курс, будучи на пару лет старше своих сокурсников: у меня уже была профессия, я считал себя этаким «обстрелянным воробьем». У меня не было, конечно, ощущения, что я ухватил Бога за бороду, но все же чувство некоторого превосходства над ребятами было. Наивное, разумеется, чувство! А между тем прошлый опыт не годился в университетской жизни. Процесс моей адаптации завершился только ко второму курсу университета. Однако, элементы той, прошлой жизни дают о себе знать до сих пор. Так мне близка социальная инженерия, в которой я чувствую себя достаточно уверенно. Социальное проектирование – это тоже мое дело.
– Вы сразу почувствовали, что хотите заниматься наукой?
– Нет, конечно! Однако наука меня всегда интересовала и влекла. Правда, представления о науке были потешными, но это другой разговор. Мое формирование как ученого происходило в рамках двух кафедр. Первым моим пристанищем стала кафедра древнего мира и средних веков. Здесь я стал заниматься синологией – наукой о Китае и китайцах. Синологии я отдал пять лет. Работал я тогда под руководством профессора Валентины Дмитриевны Нероновой – серьезного специалиста, аскета в жизни и очень требовательного преподавателя. Заведующей кафедрой в то время была профессор Анна Захаровна Нюркаева, которая также бдительно следила за моим ростом, моими успехами… И, конечно же, моими неудачами. Она могла вызвать меня к себе, критически разобрать мои первые научные тексты, дать наставления… Кстати, уже занимаясь историей Древнего Китая, я соприкоснулся с политической наукой, когда изучал китайский легизм, представители которого намного опередили макиавеллистов. Такая «выучка» плюс своеобразная научная аура кафедры, пожалуй, и склонили меня к науке.
– Как так получилось, что после Китая вы начали заниматься проблемами мультикультурализма и этнополитологии?
– Этим я обязан моему научному гуру – профессору Рахшмиру, возглавляющему кафедру новой и новейшей истории стран Запада. Благодаря нему я оказался на новой кафедре и состоялся как ученый. Он ввел меня в научное сообщество, создал условия, чтобы я стал «своим человеком» в университете. Под его руководством мной была написана кандидатская диссертация. Поначалу проблематика исследования была определена так – «Китайская диаспора в общественно-политической жизни США», однако вскоре тема была скорректирована, и я занялся мультикультурализмом.
Защитив диссертацию, я нашел практическое применение своим знаниям в администрации Пермской области, когда во времена губернаторства Юрия Трутнева возглавил экспертную группу по межэтническим отношениям и вошел в Совет по межнациональным отношениям при губернаторе. Пришлось осваивать новую для себя сферу – сферу политического консалтинга. Америку пришлось несколько отодвинуть на второй план и заняться Россией. И более того – региональными проблемами. Правда, знания, добытые в ходе изучения американского мультикультурализма, здесь были весьма кстати. Кроме того, все накопленные мной знания и умения, я реализовывал в работе на кафедре политических наук. Моим «коньком» был, конечно же, спецкурс по мультикультурализму. Там же я преподавал этнополитологию и политическую конфликтологию. Такие вот неожиданные кульбиты бывают!
– В последнее время, особенно после событий в Кондопоге, складывается ощущение, что этнические конфликты могут возникнуть где угодно, и что под полиэтничной Россией заложена «мина замедленного действия»? Насколько это соответствует действительности? И насколько стабильны этнокультурные отношения в Пермском крае?
– Вы правы, от этнических конфликтов никто не застрахован. Ни страны Запада, ни Россия, ни Пермский край. Это связано с процессами глобализации, которые имеют несколько граней – экономическую, политическую и культурную. Я остановлюсь на последней грани. Сегодня в мире происходит новое «великое переселение народов». Многие некогда относительно моноэтничные страны превращаются в полиэтничные. Посмотрите на Великобританию, где постоянно проживает значительное количество выходцев из Индии, Пакистана и стран Африки. Посмотрите на Францию, где обычным явлением стал этнический компонент из Магриба или, иначе, стран Северной Африки. Посмотрите, как меняется этнокультурная ткань современной Германии, когда гастарбайтеры из Турции перестали возвращаться на родину и стали оседать в стране Шиллера и Гете. В конце концов, посмотрите на Россию, где выходцы из стран ближнего зарубежья становятся серьезной проблемой нашего социума.
Поймите меня правильно, речь не идет об оценочных суждениях «хорошо–плохо». Речь идет о реальности, к которой необходимо приноравливаться и властным структурам, и нам с вами. А это весьма непростая штука! Даже прибывающие в Россию иммигранты из стран ближнего зарубежья, у которых культурная дистанция между местным населением не столь велика, зачастую выступают раздражающим фактором для местного населения. А что будет, когда к нам хлынут потоки иммигрантов из стран дальнего зарубежья, которые культурно и цивилизационно дистанцированы от нас куда дальше, нежели наши бывшие соплеменники по социалистическому лагерю? Я имею в виду, конечно же, иммигрантов из так называемых стран «третьего мира». Вряд ли приходится надеяться, что в Россию поедут жить европейцы. Россию, скорей всего, захлестнет азиатская волна иммиграции. К этому надо готовиться.
Иммигранты иммигрантам рознь. Одни люди приехали в Россию, чтобы остаться здесь навсегда. Значит, в их жизненной стратегии превалирует тенденция вписаться в окружающий их социум, играть по правилам большинства, принести принимающему их социуму пользу. Другие люди, напротив, рассматривают Россию исключительно как место, где можно заработать. В их жизненной стратегии отсутствует попытка укорениться в новом для них обществе. Максимум, на что они способны – это приноровиться к окружающей их действительности, порой обойдя стороной законодательство. Эти люди игнорируют местные обычаи и традиции, пытаясь выжить, группируются в солидные по численности сообщества и вызывают негодование «большинства» населения.
«Большинство» начинает защищать свой мир от незапланированного вторжения «чужих». Очень часто радикальными методами, которые выдают бессилие «большинства» что-либо существенно поменять. «Большинство» же парадоксально начинает чувствовать себя «меньшинством». Это очень опасно! Действия «скинхедов», к примеру, – это истерика сознания. Я это к тому, что ошибки и нелепости допускает как «большинство», так и «меньшинство» населения. Пойдите, найдите здесь правых или виноватых! Здесь все переплетено! Что же касается Пермского края, то вышеописанные закономерности касаются и его. Властным структурам необходимо проявлять бдительность!
– Вы долгое время работали на кафедре политических наук ПГУ. Что случилось со специальностью «Политология»? Первый и второй ее выпуски были просто «звездными», а теперь есть ощущение, что кафедра находиться в кризисе?
– Я бы не согласился с Вами. Знаете, это старая песня о главном: вчера и солнце светило ярче, и трава была зеленее, и ветер дул свежее. Все это из области субъективного. Первый и второй выпуск политологов был в ситуации, когда политологов было немного. Рынок труда готов был поглотить их, что он с удовольствием и сделал. Эти ребята попали в выгодную конъюнктуру. Действительно, там было много ярких людей, но, уверяю вас, что и сейчас их не меньше. Однако политологов теперь много. Значит, и затеряться очень легко. Потом есть вполне естественные рыночные ограничения у любой специальности. И политологи не являются исключением. Потом, следует помнить, что любое развитие идет через фазу кризиса. Кризис – это показатель роста. Я желаю кафедре политических наук ПГУ процветания и достойных выпускников. И, конечно же, поздравляю ее с 10-летним юбилеем!