
18 мая в Пермском академическом театре оперы и балета состоялась премьера оперы «Похождения повесы» (16+) Игоря Стравинского. В преддверии этого события прошла лекция критика и обозревателя Юрия Сапрыкина. Он рассуждал о том, как на человека влияет жажда славы и признания в контексте современных медиа.
Опера «Похождения повесы» написана композитором Игорем Стравинским на либретто Уистена Одена и Честера Коллмэна. Сама опера основана на одноименных картинах и гравюрах XVIII века английского художника Уильяма Хогарта, которые сам Стравинский увидел на выставке в Чикаго в 1947 году. В центре сюжета деревенский юноша Том Рейкуэлл, который бросает свою возлюбленную Энн Трулав ради жизни в Лондоне. Туда его заманивает некий Ник Шедоу, впоследствии раскрывающийся как Дьявол-искуситель. И после череды бед, подстроенных Дьяволом, Том Рейкуэлл попадает в психиатрическую больницу.
Лекцию провел Юрий Сапрыкин — российский журналист и культуролог, критик и обозреватель «Коммерсантъ Weekly», руководитель проекта о знаковых произведениях русской литературы «Полка» и в прошлом главный редактор и редакционный директор журнала «Афиша».
Ниже публикуем цитаты лектора.
Медиа — современные змеи-искусители
Аркадий Ипполитов (советский и российский искусствовед, писал научные статьи об опере Стравинского. — Прим. ред.) пишет о том, как сюжет пьесы неоднократно разыгрывался в разных видах искусства. Сначала это сюжет гравюр художника Уильяма Хогарта, потом это сюжет оперы «Похождения повесы» Игоря Стравинского. Либретто Коллмэна и Одена, которое написано для этой оперы, потом появляется в вариации в ХХ веке и в изобразительном искусстве, и в сценическом.
И Ипполитов приводит слова Уистена Одена, который говорит, что эта история — самая настоящая мифологема, то есть ситуация, в которую каждый из нас, пусть потенциально, попадает, поскольку вообще является человеком.
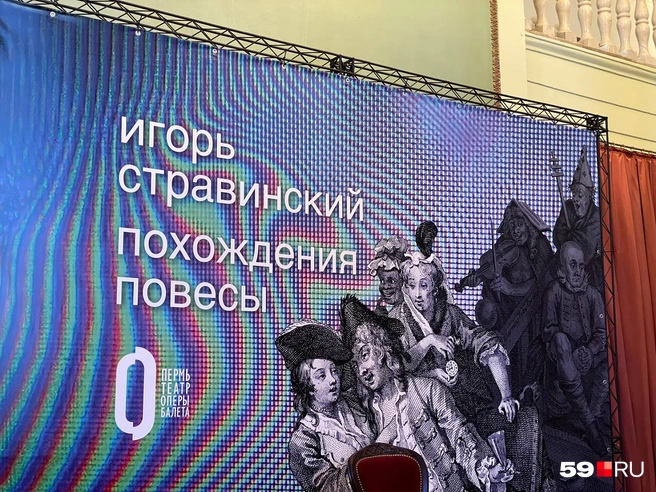
Нас и героя оперы, героя гравюр Хогарта разделяют 300 лет, и это значительный срок для того, чтобы нам было сложно понять друг друга. Прежде всего, нам сложно без изучения контекста понять, откуда Том Рейкуэлл в своей английской сельской глуши узнает, что бывают мода, слава и успех и что за ними нужно гнаться.
Как транслируется это знание? Как оно достигает своей убедительной силы? Как оно становится настолько важным и влиятельным, что человек бросает ради него родной дом и, в общем, губит свою жизнь? Про Тома Рейкуэлла мы это уже не очень понимаем, но про наших современников можем понять гораздо лучше. Это сила, которая задает нам недостижимые стандарты жизни, одновременно сбивает нас с прямого пути на разные кривые и скользкие дорожки.
Это сила медиа.
Про то, какая бывает мода и что такое успех, мы узнаем из тех или иных медиа. Телевидение, газеты, журналы, интернет, соцсети и так далее. Понятно, что, если бы сюжет «Похождений повесы» разыгрывался сегодня, в нём с огромной вероятностью появилась эта инстанция. Змей, который искушал бы героя. И тот, кто следит за развитием медиа последние несколько десятков лет, может заметить, что имена и обличия этого змея-искусителя всё время меняются.
Какая шестеренка медийной машины тащит нас в ад? На эту тему в каждую эпоху было и есть свое особенное мнение. Отчасти дело в том, что каждый новый большой этап в развитии медиа неизбежно вызывает в обществе страх. Всем становится страшно. Появляется какая-то новая форма медиа, и сразу можно заметить, что ей начинают пугать детей. В моем детстве это было телевидение.

Но оказывается, что само по себе телевидение было еще ничего. Но вот рекламные паузы — это какой-то кошмар. Они разжигают у нас всякие нехорошие желания купить что-либо. Они опять же задают какие-то недостижимые стандарты красоты, благополучия и успеха. Хуже того, они сцепляют наши естественные желания быть красивым, здоровым, успешным с искусственными.
Следующее имя змея-искусителя — это глянец. Появляются глянцевые журналы. Глянец продает уже не просто товар, не просто холодильник, он продает образ жизни. Он не говорит: «Купи это и стань счастливым», он дает множество мелких советов, образов и стандартов на все случаи жизни, выполнение которых может привести к успеху и счастью. Одним холодильником дело совершенно не ограничится. Нужно очень много работать над собой.

При этом все эти советы исходят из довольно одномерного понимания человека как существа, которое должно заботиться о том, чтобы его успех и красота были видны всем вокруг. И все вокруг понимали бы, что он — ого-го! Появляется ощущение, что все люди, которые фигурируют на этих страницах или пытаются следовать этим стандартам, как-то страшно притворяются. Глянец демонстрирует превосходство. Он для людей, которые смотрят на других свысока.
У всех разговоров про глянец, рекламу и телевидение есть одна общая черта. Она общая не только для критики медиа, но и для всей философии второй половины XX века. Черта, которая навязывает человеку ложные представления о себе, уводящие его от своей истинной сути. Эти представления делают его полым, пустым, механическим человеком без свойств.
В наше время произошел еще один тектонический перелом, потому что буквально на расстоянии жизни одного поколения медиа старого типа начали терять свою силу, а где-то и вовсе перестали существовать. Появились медиа абсолютно нового типа, которые работают совершенно иначе. И сила нового змея-искусителя увеличилась в разы и изменила свою природу.
«Вирусный редактор»
Медиа перестали быть вертикально организованными. У телевизионной программы, у журнала, у чего угодно еще есть специально нанятая профессиональная редакция, которая разговаривает со своей аудиторией сверху вниз. Теперь же медиа — это мы сами. Мы разговариваем друг с другом. Мы сами друг другу рассказываем какие-то истории, передаем их, транслируем, усиливаем и обсуждаем. И оказалось, что это тип медиа, с которым человечество еще не научилось обращаться.

Что происходит? Исчезла редакция и сама фигура редактора. Если у «Первого канала» есть вертикальная организационная структура и понятно, кто начальник — за весь канал отвечает Константин Львович Эрнст. То у социальных медиа своего Константина Львовича Эрнста нет.
Что в этих медиа становится популярным? Что становится важным? Что определяет сегодняшнюю повестку? Это определяется каким-то коллективным разумом. Исследователь медиа Андрей Мирошниченко придумал для этого термин «вирусный редактор». Это люди, которые сидят в соцсетях, участвуют в распространении информации и создают вирусный эффект. Когда та или иная информация, то или иное видео летит и заражает всех вокруг, как какой-то очень быстро распространяющийся вирус ОРВИ.
Что зашло, то и определяет повестку дня. Руководит всем этим непонятно кто, но при этом какая-то мудрость присутствует. Мудрость роевого сознания, которое формируется в соцсетях. Проблема здесь в том, что Эрнста теоретически можно уволить, а здесь уволить некого. Здесь непонятно, кого нужно снять со своего поста за то, что произошла ошибка и загрузилась не та информация. Оно происходит само, никакой ответственной инстанции за это нет.

Быстро разлетаются самые эмоциональные сообщения. Те, которые вызывают наиболее сильную эмоцию.
Сила этих эмоций заставляет становиться частью этого вирусного редактора и транслировать информацию дальше и дальше. Причем эмоции бывают разные, и эмоции, например, умиления или восторга, работают хуже, чем гнев и раздражение. Людьми, которые анализируют поведение интернет-платформ, экспериментально доказано, что эмоция, которая заставляет чаще всего возвращаться на платформы, это ощущение, что в интернете кто-то неправ.
Многим, наверное, знакомо это чувство, когда уже давно пора спать, а ты сидишь до четырех утра и не можешь с кем-то доругаться, потому что этот идиот не понимает очевидных вещей и тебе нужно их ему доказать. Это раздражение заставляет заходить в интернет и участвовать в работе социальных медийных машин.
«Информация течет непрерывно»
Информация превращается в поток. Телевизор можно выключить, и помимо этого у телевизионных программ есть начало и конец. Информация же, которая содержится в телефоне, не начинается и не заканчивается никогда. Она течет непрерывно. Стоит только нажать на нужную кнопку, и ты оказываешься внутри этого потока. Потока новостей, потока видео, потока смешных картинок, потока фотографий твоих друзей.
Из этого потока невозможно уйти. Есть даже такой научный термин: fear of missing out — страх выпасть из повестки. Что-то сейчас произошло, ты про это еще не знаешь, а все уже давно все обсудили и сделали выводы. Каждое отдельное событие становится маленькой частью этого потока. Картинкой, коротким видео, которые вытесняют и замещают собой другие картинки и короткие видео. Очень сложно становится сложить длинную историю с каким-то последовательным развитием.
Она складывается произвольно. И расцвет, например, теорий заговора, как раз отсюда. Почему подорожала гречка? Виноваты рептилоиды! Виноваты какие-то враги, которые, заставили гречку подорожать.

Есть еще так называемый эффект постправды. Этот термин подразумевает то, что в потоке коротких, сменяющих друг друга событий очень сложно различить, где правда, а где ложь.
Потому что если ты про каждое событие помнишь, в лучшем случае, день, а скорее всего, всего несколько часов, то, на самом деле, не очень важно, насколько оно истинно или насколько оно лживо. Даже если это была неправда и если ее потом опровергнут, ты, скорее всего, этого опровержения просто не увидишь.
Есть и люди, которые сознательно или случайно вбрасывают фейковые новости. Потому что если новость завирусилась, то дальше ее опровергнуть чрезвычайно сложно. Например, когда победил Трамп (Дональд Трамп — 45-й президент США. — Прим. ред.) в 2017 году, самой вирусной новостью в соцсетях его сторонников было то, что Трамп встретился с Папой Римским Франциском. Но Трамп не встречался с Папой Римским. Это легко проверить и опровергнуть.

Тем не менее условные десятки миллионов человек, которые перепостили эту новость, искренне считают, что это правда, и, возможно, эта новость как-то повлияла на них при решении, за кого голосовать. Получается, что ничто не достоверно окончательно и ничто не лживо абсолютно, а всей правды мы никогда не узнаем.
Разные манипуляторы этим прекрасно пользуются, когда по поводу каждого громкого события вбрасывают кучу разнообразных версий, домыслов и слухов. Ты просто плаваешь в этом тумане, и в какой-то момент становится уже всё равно, а кто там на самом деле убил Джона Кеннеди.
Соцсети создают для нас информационные пузыри, а мы для себя — эхокамеры
Еще два новых популярных термина — «информационные пузыри» и «эхокамеры». Это то, что происходит с людьми в социальных медиа.
«Информационный пузырь» — это то, что создают алгоритмы поисковых машин и социальных сетей, когда понимают, что нам нравится, а что не нравится. Они подсовывают нам ту информацию, которую нам приятно было бы увидеть. Так вокруг нас образуется круг каких-то единомышленников, с которыми мы на одной волне, на одном языке, нас волнуют одни и те же события. А другие круги, которых волнуют другие события и которые говорят на другом языке, улетают куда-то за пределы нашей близости.

Эхокамеры — это в некотором роде разновидность информационного пузыря, но их создаем мы сами. Мы сами оставляем в друзьях тех людей, с которыми легко и приятно, а других мы оттуда выкидываем, баним, чтобы их не видеть. Мы создаем вокруг себя в социальных медиа зону комфорта, полностью совпадающую с нашими убеждениями, предрассудками, представлениями о мире, вообще с тем, что нам не просто интересно. Всё некомфортное мы выкидываем за пределы эхокамеры. И когда оно вдруг каким-то образом прорывается… Откуда оно взялось?
Социальные медиа — это еще и очень поляризующая вещь, разбивающая и раскалывающая на лагеря, которые перебрасываются друг в друга из виртуальных окопов виртуальными камнями и не могут найти общего языка.
Новый глянец
Существует еще один виток медийной машины, который движет искусительную силу дальше, чем это делают такие социальные сети, как Facebook*, Twitter и Telegram.
Это социальные медиа, связанные с визуальностью, то есть, прежде всего, Instagram*, TikTok и YouТube. Это медиа, которые не требуют чтения или написания текстов. Они построены на картинках, и в этих медиа происходит еще одна удивительная штука. Эффекты поляризации сохраняются, но появляется сверху еще один слой, который, наверное, гораздо более актуальный для людей, которым сейчас по 15–25 лет или даже меньше.

К эффекту поляризации социальных сетей прибавляется еще и эффект глянцевого журнала. То есть создаются новые стандарты — сами собой, без участия какой-либо редакции, которые вызывают желание им соответствовать и кажутся рецептом достижения счастья и успеха.
Но если внимательно смотреть на ленту Instagram* в течение долгого времени, то вы увидите, что лица знаменитостей, которые там популярны, — то, как они себя фотографируют, на фоне каких интерьеров или туристических пейзажей, или какой еды — приобретают какие-то очень похожие черты. И создаются новые стандарты, касающиеся самых разных аспектов стиля жизни, вплоть до выражения лица, которое должно быть у человека на фотографиях. В Instagram* всё должно выглядеть предельно естественно. Всё должно притворяться предельно естественным. И эта естественность тоже требует огромного труда.
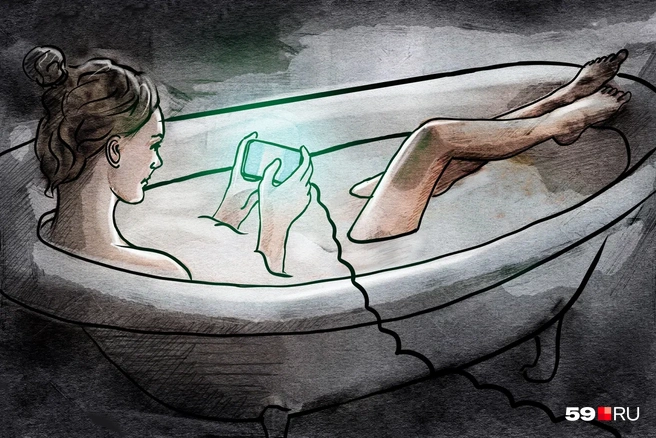
Возникает какое-то новое качество у этих стандартов, где нужно демонстрировать не то, какая у тебя огромная позолоченная машина, а то, какое у тебя всё естественное, но со вкусом.
Если в медиа старого типа знаменитым становится человек, который что-то сделал, например спел популярную песню, снялся в популярном кино, то для Instagram* тебе не нужно нигде сниматься, помимо самого Instagram*. Демонстрация своей жизни, очень продуманная и намеренная, достаточна для того, чтобы стать звездой в этом новом социальном пространстве. При этом в эту картину мира никогда не попадают отношения с родителями. Туда не попадают личные ошибки, рефлексия по поводу этих ошибок. Туда не попадает огромный спектр эмоций, в том числе и жалости, сострадания, отчаяния и любви.
Это создает очень усеченную эмоциональную картину.
Что мы можем сделать?
Минимум того, что мы можем сейчас сделать, как мне кажется, — осознать то, что эта информационная среда, в которую мы погружены, неестественная.
Она не возникла сама по себе. Если мы хотим ввязаться в какой-то очередной срач, если мы переживаем по поводу того, что нам написали в комментариях, или если мы завидуем каким-то особенно красивым друзьям из Instagram*, у которых очень интересная жизнь, то это неестественно. Это кто-то специально сделал, чтобы мы чувствовали себя плохо. Это чье-то решение.
И можно понимать хотя бы это и по возможности на это не сильно вестись. Или, как минимум, не сильно по этому поводу расстраиваться. Мне кажется, важно помнить, что есть другие формы общения, другие способы разговаривать друг с другом. Основанные не на том, как друг друга сильнее уязвить или подколоть, или доказать, что ты неправ, или продемонстрировать, какой ты прекрасный и как все остальные недотягивают до этого стандарта, или испытывать угрызения по этому поводу. Есть формы общения, основанные на сочувствии и взаимопонимании. Мы все их прекрасно знаем и используем, как только собираемся с близкими людьми и откладываем в сторону телефон.

Я закончу цитатой Виктора Пелевина, которую он написал в книге «Любовь к трем цукербринам» (18+). Он там развивает теорию мультивселенных: что на каждом шагу своей жизни мы перепрыгиваем из одной альтернативной вселенной в другую. События где-то в каком-то мире идут одним образом, а мы перепрыгиваем на параллельный поезд и попадаем в другую вселенную, где они идут как-то иначе.
Пелевин пишет: «Механизм в нашем движении по вселенным — это просто наши ежесекундные выборы между хорошим и плохим, между сочувствием и ненавистью, между велосипедом и Facebook'ом*. От этого выбора зависит в какой вселенной мы окажемся». Мне кажется, важно помнить, заходя в Facebook*, что еще существует условный велосипед или что-то не менее прекрасное.
* Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.
Ранее пермский психолог рассказал о том, почему людям нравится читать плохие новости.
Чтобы первыми узнавать обо всём, что происходит в Перми и Пермском крае, подпишитесь на наш канал в Telegram.











